 Translit
Translit
«Иранский» кафтан Хосрова и «адыгская струя»
19.09.2017
0
3612
Доде З.В.
Amicus Socrates, sed magis amica veritas
Монография А.А. Иерусалимской посвящена всемирно известному скальному могильнику VIII–IX вв. Мощевая Балка. Книга богато иллюстрирована — цветные иллюстрации воспроизводят уникальные находки, их презентацию в музейной экспозиции, прорисовки орнаментов тканей и карты торговых путей. Публикация археологических материалов в такой великолепной полиграфической форме — явление нечастое в отечественной науке. А данная публикация, как указано в колофоне, относится к научным изданиям. В монографии шесть глав, три из которых снабжены приложениями, дополняющими содержание основного текста. Представлены также библиография, список сокращений и краткое резюме на английском языке.
Книга отражает полувековой «роман» автора с Мощевой Балкой, начавшийся с изучения эрмитажной коллекции одежды и тканей из этого памятника. Результаты ее исследований изложены в ряде статей и монографии, изданной на немецком языке в 1996 году. Новая работа, как отмечает автор, «отнюдь не является калькой с этого издания: она построена (и написана) совершенно иначе и к тому же включает новые материалы и идеи, появившиеся за последние 10 лет, прошедшие после выхода немецкой монографии» (С. 11).
То, что последнее издание вобрало в себя ранее опубликованные находки и полученные А.А. Иерусалимской выводы, является закономерным результатом ее многолетней работы. Отказ от значительного объема материала, представленного в немецком издании, включая подробное исследование полотняных тканей, — тоже право автора. Однако исключение из работы каталогов с подробными описаниями находок, на мой взгляд, значительно обеднило русскоязычную версию книги.
В своей работе А.А. Иерусалимская рассматривает широкий спектр артефактов (гл. V), анализирует находки из Мощевой Балки в контексте погребального ритуала и предложенного ею «явления символизации», заключающегося в замене реальных вещей для погребения «символическим инвентарем» (гл. II). Все же центральной темой остаются ткани и костюм раннесредневекового населения Северного Кавказа. На отражении этой темы в новом исследовании А.А. Иерусалимской, обещающем читателю «новые идеи», хотелось бы остановиться более подробно.
В работе анализируются шелковые, шерстяные и кендырные ткани, вытканные в мастерских Византии, Согда и Китая. Текстиль, найденный в Мощевой Балке, является важным доказательством связей средневекового населения Северного Кавказа с народами других стран (Гл. III). В монографии представлен полный анализ богатейшей коллекции аланского костюма (гл. IV). Выводы А.А. Иерусалимской позволяют интерпретировать разрозненные находки одежд и шелков, обнаруженных в могильниках Хасаут, Нижний Архыз, Гамовская Балка, Уллу-Кол, Эшкакон и других памятниках этого круга.
Однако наряду с очевидными достижениями работа имеет и недостатки. В первую очередь это касается определения А.А. Иерусалимской этнокультурной принадлежности костюмов из Мощевой Балки и поисков их истоков.
Около четверти века назад А.А. Иерусалимская связала выделенные ею наиболее характерные признаки мужского аланского кафтана — левый запах, застежки на «галунах», пуговицы на краю правой полы, петли на левой — с иранской традицией (lerusalimskaja 1978: 190-198).
Впоследствии, рассматривая этногенетический аспект одежды средневекового населения Северного Кавказа, она неоднократно высказывалась в пользу его иранской подосновы (Иерусалимская 1992: 7; lerusalimskaja 1996: 51; Иерусалимская 2001: 93) и в новой монографии своих взглядов не изменила. В качестве основных признаков, которые при атрибуции аланских кафтанов привели ее «в иранский мир, в Парфию и Сасанидский Иран, а также страны, этнически и культурно с ним связанные, — в первую очередь, в Согд и другие районы Средней Азии», А.А. Иерусалимская назвала «левый» запах кафтанов, двухчастный покрой, боковые «разрезы», длинные рукава (С. 222). Кафтан с этими признаками, показанный на рельефных изображениях иранского шаха Хосрова II в Таки-Бустане, послужил ей основанием для определения мужских кафтанов из Мощевой Балки и других могильников региона, как «исконно иранского типа одежды всадника» (Там же). Привлекаемая А.А. Иерусалимской аналогия показывает, что этнокультурная атрибуция одежды отождествляется автором с этнической принадлежностью ее обладателя.
В действительности же связывать кафтаны, изображенные на согдийцах, и аналогичные им по покрою аланские кафтаны из северокавказских памятников с Сасанидским Ираном нет оснований. Их истоки следует искать в других традициях, а именно в одежде раннесредневековых центральноазиатских кочевников, большинство которых были носителями тюркского языка. Данное заключение опирается на многочисленные исследования, не упомянутые в рецензируемой монографии. Коснусь кратко некоторых из них.
Еще в 1940 году А.Н. Бернштам сделал вывод об ассимиляции согдийцев тюркским населением, в результате чего согдийцы переняли одежду и нравы тюрок (Бернштам 1940: 42-43). Позднее на широкое влияние тюрок не только на одежду, но и на доспехи, и конскую упряжь указывала В.И. Распопова (Распопова 1970: 86-91; 1980 : 97-109). О соответствии одежды согдийцев VI-VIII вв. кочевнической традиции писала Н.В. Дьяконова (Дьяконова 1980: 177). Н.П. Лобачева, придя к выводу о тождестве согдийской и тюркской одежды, отмечала, что сходная одежда была также распространена и в Иране (Лобачева 1979: 24, 34). На рельефных изображениях в гроте Таки-Бустан персидский шах Хосров II показан в кафтане, сшитом по тюркской моде, опоясанный двумя наборными, также тюркского типа поясами с подвесками (Доде 2001: 105). Таким образом, связывать кафтан Хосрова II с сасанидскими традициями, как это делает А.А. Иерусалимская, неверно.
Отражение кочевой традиции в признаках аланского кафтана видит и Э. Кнауэр. Доказательства этому она приводит в статье, посвященной аланскому кафтану из коллекции Музея Метрополитен (Knauer 2001: 139). А.А. Иерусалимская же считает, что Э. Кнауэр пришла к «искаженной генетической интерпретации» этой одежды (С. 221). Однако в чем выразились эти искажения, она не поясняет.
Детальное изучение костюма древних тюрков на основании анализа более чем 170 изваяний, наскальных граффити, настенной живописи и подлинных кафтанов из погребений провел Г.В. Кубарев. Им было установлено, что распашной, двубортный, приталенный кафтан с длинными узкими рукавами, пришитыми к стану при помощи ластовицы, с отворотами-лацканами или без них является характерной деталью тюркского костюма (Кубарев 2005: 33). Аланский кафтан, хранящийся в Музее Метрополитен — с левым запахом, окантовкой края верхней полы и подола орнаментированным шелком и одним отворотом-лацканом, имеет, по его мнению, определенные аналогии с тюркским кафтаном (Кубарев 2005: 41).
Таким образом, у большинства исследователей не вызывает сомнения тюркское происхождение кафтанов приталенно-расклешенного силуэта, отрезного и распашного кроя, с боковыми разрезами и отворотами. То, что А.А. Иерусалимская игнорирует их мнение, может означать только одно: ее настойчивое утверждение об иранской основе аланского кафтана является не заблуждением, а убеждением. Полемика в таком случае бессмысленна. Можно только попытаться понять причины столь твердой веры.
По всей видимости, взгляды А.А. Иерусалимской не изменились с того периода, когда в отечественной исторической науке преобладали традиции автохтонизма с одной стороны, и преувеличение влияния иранского компонента с другой. Исходя из этого, она выделяет в местном костюме два компонента, «из которых один восходит к адыгской, а другой к — аланской составляющим» (С. 234). Причем «аланским компонентом», по ее мнению, являются мужские кафтаны из Мощевой Балки, принадлежавшие «в своей основе к одному из типов иранской мужской одежды» (С. 224), то есть, «аланский компонент» в ее понимании тождественен «иранскому типу одежды».
Так, например, перечисляя прототипы для шелкового декора аланских женских головных уборов, она пишет: «К иранской среде восходит, вероятно, и еще один характерный элемент этого убора: центральное украшение в виде шелкового ромбика (либо, возможно, в других случаях металлические бляхи). Его далекими прототипами можно считать металлические бляхи, располагавшиеся в центре женских головных уборов, — начиная от скифских (Карагодуахшская (так у автора. — З. Д.) пластина) и кончая ромбовидными бляхами поздних Андрюковских курганов [Веселовский 1898. С. 9-27]» (С. 190). Между тем, в треугольной золотой пластине, некогда украшавшей высокий конусообразный женский головной убор из скифского кургана Карагодуашх, сложно увидеть даже очень отдаленное сходство с шелковыми ромбиками на аланских шапочках округлой формы. Н.И. Веселовский же в своем отчете (на С. 55, а не 9-27, как указано А.А. Иерусалимской) писал, что «обломки большой ромбоидальной тонкой, серебряной, густо вызолоченной пластинки, помещавшейся, быть может, напереди шапочки» происходят из погребения «такого типа, как могилы в курганах Белореченских» XIV-XV вв. (Веселовский 1898: 55). Таким образом, описанная пластина никак не могла служить прототипом декора аланских шапочек VIII-IX вв.
Поздние этнографические параллели аланскому убору с накосником и его связь с иранским миром А.А. Иерусалимская видит в глубоком («длинном») уборе с завязками и матерчатой налобной повязкой, зафиксированном, как она сообщает, в позднесредневековых склепах Северной Осетии (С. 183). Сведений о памятнике, авторе раскопок, месте хранения находки в ее работе нет, что лишает данную аналогию достоверности. В качестве еще одного аргумента в пользу иранского происхождения головного убора с накосником и системой повязок А.А. Иерусалимская, ссылаясь на С. 112 книги В.Х. Тменова 1972 г., пишет о том, что «судахские женщины употребляют накосники [Тменов 1972. С. 112]» (С. 183). Указанная монография В.Х. Тменова издавалась дважды: в 1973 и 1979 году. Объем первого издания ограничен 83 страницами. В издании 1979 года на странице 112 такой информации нет, как нет ее и в разделе, посвященном головным уборам и одежде (см.: Тменов 1979: 117-126).
В целом доказательная база строится на тенденциозном поиске параллелей аланской одежде в поздних археологических памятниках и этнографии осетин и адыгов. «Устойчивость особенностей покроя, системы декора, а также стандартность применявшихся при изготовлении одежды (включая обувь) приемов, свидетельствует о глубокой традиционности в этой сфере, что дает возможность широко использовать этнографические параллели» (С. 234), — пишет автор. Однако такие параллели указывают на длительность традиции, но не определяют ее происхождение. Приведу один из примеров доказательства «иранскости» аланских кафтанов в монографии А.А. Иерусалимской. «Сходный аланский кафтан сохранился в основных своих чертах вплоть до современности. Так осетинский мужской кафтан на меху — шуба карц (иранский термин), крытая тканью, повторяет главные черты “аланских кафтанов” (отрезной покрой с приталенной верхней и свободной нижней частью, с “левым” запахом). Особенно интересно, что, наряду с таким верхним кафтаном, в Дигории, на Урухе и Ардоне этнографически засвидетельствован и нижний — полотняный неутепленный кафтан с “галунами”, который назывался курат (термин также иранский)» (С. 224). Но аналогичная одежда, шуба, например, входит в костюмный ансамбль и других языковых групп населения Северного Кавказа, которые называют ее словами родного языка (см.: Студенецкая 1989: Табл. 1). Таким образом, использование иранских терминов ираноязычными осетинами для предметов одежды, общей для всех северокавказских народов, не доказывает ее иранское происхождение. Иная ситуация, когда разноязычные северокавказские народы используют однокоренные слова для одного и того же элемента костюма. В таких случаях возможно предполагать существование единого прототипа, как, например, для кожаных носков, известных по находкам в аланских погребениях. Е.Н. Студенецкая указала, что в быту у разных народов Кавказа подобный вид обуви известен под названиями с одним корнем, восходящим, по мнению В.И. Абаева, к скифскому слову «овца» (Абаев 1949: 171), и предположила, что «термин вошел в кавказские языки очень давно, вместе с проникновением в культуру самого предмета» ( Студенецкая 1989: 98).
«Адыгскую струю в моде алано-адыгских племен», по мнению А.А. Иерусалимской, представляют «внутреннее ожерелье» под платьем у адыгских женщин (С. 228), способ изготовления обуви со швом по центру подошвы (С. 232-233) и четырехклинные головные уборы, широко распространенные в костюме народов Кавказа, «начиная от адыгских девичьих шапочек... и кончая мужскими папахами начала XIX в. у имеретинцев» (С. 191). Шаткость этих аргументов вынуждает автора приводить такие дополнительные уточнения, как «гипотетическая линия» (С. 191), «осторожная гипотеза» (С. 192), «осторожное предположение» (С. 227). По мнению А.А. Иерусалимской, «факты, касающиеся всех видов одежды из М. Б., оправдывают некоторую, на первый взгляд, фантастичность» предложенных ею реконструкций (С. 234) . Нет, не оправдывают, поскольку противоречат этнографическим данным. В этом легко убедиться, сравнив, например, выводы А.А. Иерусалимской и специалиста в области этнографического костюма народов Северного Кавказа Е.Н. Студенецкой. Приведу цитату из работы А.А. Иерусалимской относительно способов сшивания северокавказской обуви: «Для интерпретации обуви из М. Б. представляется особенно важным, что у адыгских народов центральный шов проходит внизу, вдоль ступни (нижний шов), а у ираноязычных осетин такая обувь шилась, напротив, со швом, проходящим по верху, вдоль подъема (верхний шов). Смешанный характер населения VIII-IX вв. в горных долинах Северо-Западного Кавказа обусловил обнаруженное в обуви из М. Б. совмещение адыгской и аланской традиций. К тому же, при всей случайности сохранившейся выборки обуви, следует все же отметить, что нижний шов характерен для всей без исключения женской обуви из М. Б., в то время как осетинский (аланский) — верхний шов — встречен в мужской и детской (мальчиков?) обуви» (С. 232-233).
Однако результаты исследований Е.Н. Студенецкой показали, что кожаная обувь со швом по заднику и подъему, которую А.А. Иерусалимская однозначно связывает с ираноязычными осетинами, наиболее широко бытовала в Балкарии и Карачае, и термин для ее обозначения тюркского происхождения. Такая же картина наблюдалась и в Кабарде и в Чечено-Ингушетии, где простая мужская обувь указанного покроя из сыромятной кожи была широко распространена (Студенецкая 1989: 100-101). Обувь со швом по подошве и заднику, относимая А.А. Иерусалимской только к адыгской традиции, действительно была характерна для адыгов, а также и для всех народов Северного Кавказа (Студенецкая 1989: 105-106).
Имеющийся на сегодняшний день археологический материал, сопоставимый с этнографическими данными, позволяет говорить о том, что обувь, как и весь комплекс костюма, формировалась на Северном Кавказе в рамках региона, а не этнических групп. Определяющим фактором выступали занятия населения, особенности рельефа и климата. Попытка А.А. Иерусалимской дифференцировать способы изготовления аланской обуви по половому признаку вообще не подтверждается этнографическими данными. «Мужская и женская обувь у народов Северного Кавказа почти не различалась. Женщины носили все те же виды обуви, что и мужчины, но в ином количественном соотношении» (Студенецкая 1989: 99).
Шаткие аргументы в пользу «адыгского» компонента в аланском костюме привели А.А. Иерусалимскую к закономерному заключению о несводимости аланской женской одежды «к определенному этническому пласту» (С. 227). Но, не сумев преодолеть притяжение автохтонно-иранского дискурса, она не изменила свое первоначальное мнение о жесткой связи женской одежды из Мощевой Балки с «аборигенным» адыгским компонентом (С. 227), а мужского костюма с «аланскими, иранскими» элементами (С. 234).
Несмотря на разницу в терминах, все народы Северного Кавказа считают своим, по существу, одинаковый комплекс костюма, в котором единым является не только набор элементов, но также их конструкция и декор. Это обстоятельство не исключает присутствия разных этнических компонентов в его формировании. Истоки того или иного элемента костюма следует искать в культуре предшествующего времени и выстраивать линию преемственного развития. Но при этом следует учитывать влияние внешних факторов и то обстоятельство, что костюм не имеет лингвистической принадлежности и ДНК. Методические основы изучения одежды были в свое время изложены Н.И. Гаген-Торн и, несмотря на давность, верны и сегодня: «необходимо проследить формы и символику одежды за определенный период, в определенный, сознательно для себя ограниченный, отрезок времени, и только выяснив характер этих явлений для данной, более поздней общественной стадии, переходить глубже, к рассмотрению рудиментов предшествующих формаций и установлению общих закономерностей» (Гаген-Торн 1933: 123). При исследовании одежды важен и методический подход, сформулированый Н.П. Лобачевой, при котором следует учитывать, что «покрой одежды и другие ее черты формируются не в рамках народа, а в пределах региона» (Лобачева 1989: 35). Игнорируя эти важные принципы, А.А. Иерусалимская предвзято ищет аналогии аланскому костюму только в осетинских и адыгских материалах, сбрасывая со счетов степной фактор, оказывавший мощное и длительное влияние на культуру народов Северного Кавказа.
Не буду здесь останавливаться на таких частных вопросах, как интерпретация отдельных видов женских головных уборов (С. 190, 203), псевдореконструкция комплекта женской одежды, названного «пелериной и юбкой» (С. 199-202), отрицание А.А. Иерусалимской применения аланами меха для отделки головных уборов (С. 187), неверно изображенную конструкцию проймы на схемах покроя мужских кафтанов (С. 239, ил. 141; С. 240, ил. 142) и ряде других. Вернусь к ним для предметного обсуждения в другой работе. Но нельзя не отметить категоричное отрицание автором чужих идей без объяснения причин.
Безапелляционна и необоснованна оценка А.А. Иерусалимской реконструкции аланского кафтана, выполненной реставратором музея Метрополитен Набукой Кайятани как «фантастической», не имеющей «ничего общего ни с археологическими находками такого рода, ни с продолжением этой традиции на Северном Кавказе» (С. 221). Выкройка этой одежды, опубликованная Н. Кайятани (Kajitani 2001: 96, fig. 21), в отличие от схем в работе А.А. Иерусалимской (С. 239, ил. 141; С. 240, ил. 142), выполнена корректно и в целом соответствует конструкции подобной мужской одежды, известной по находкам в могильниках Северного Кавказа (Доде 2001: 14, рис. 3). Возражение вызывает только глубина запаха и моделирование кафтана на манекене. Запах одежды оказался неоправданно увеличен. Край правой полы при реконструкции сильно смещен к левому боковому шву, в то время как (согласно археологическим данным) должен проходить по центру левой груди. Это привело к изменению силуэта, и в результате кафтан имеет не приталенно-расклешенную форму, а выглядит прямым, с узким подолом и объемным лифом. Однако в целом исследование кроя, базовой ткани и шелковой отделки кафтана сомнений не вызывает. То, что Н. Кайятани, как пишет А.А. Иерусалимская, «крайне далека от северокавказских материалов вообще и от многочисленных находок кафтанов в М. Б. и других могильниках VIII-IX вв. (в том числе опубликованных)» (С. 221), не повлияло на профессионализм и результаты работы реставратора.
Если в одних случаях А.А. Иерусалимская бездоказательно отрицает чужие идеи, то в других, когда они ставят под сомнение высказанные ею положения, вовсе их игнорирует. Это касается, например, миниатюрной одежды, с легкой руки А.А. Иерусалимской называемой «кукольной». Такие экземпляры, по ее мнению, «с абсолютной точностью повторяют покрой реальной одежды людей» (С. 48). В этой связи представляется заслуживающей внимания гипотеза Э. Кнауэр о том, что при полном отсутствии находок кукол в Мощевой Балке миниатюрные кафтанчики и платья можно рассматривать как имитирующие сменную одежду погребенных, чему имеются аналогии в центральноазиатском материале (Knauer 2001: 143-144). Эта гипотеза не была даже упомянута в контексте предложенной А.А. Иерусалимской теории «символизации» погребального обряда, что казалось бы логичным. Зато куклы выделены ею в отдельную категорию погребального инвентаря с характеристикой конструкции и половой принадлежности этих фантомов. В результате читателю предлагается бездоказательная реконструкция. «Куклы, от которых сохранилась только одежда и в одном случае обувь, были, безусловно, также набиты соломой», — пишет автор, ссылаясь на далекую по времени и документально в ее работе не подтвержденную находку «больших кукол в осетинских склепах XV-XVI вв. в Дзивгисе». И далее; «Судя по их костюмам, дошедшим до нашего времени, среди них были “куклы-девочки” (или женщины), которым принадлежало одно полотняное платье, отделанное шелком, и одна утепленная “шуба”, крытая шелком, а также “куклы-мальчики” (мужчины), от которых остались полотняный, с шелковой отделкой, кафтанчик, кожаный высокий сапожок и шелковый “чулок” (холщовые штанишки могли принадлежать как первым, так и вторым)» (С. 343).
«Незамеченными» остались идеи и других исследователей. А.А. Иерусалимская, ссылаясь на свою работу 1992 г., пишет, что «большой пласт согдийских шелковых тканей занданечи позволил... в свое время создать гипотетическую картину формирования и развития этой школы раннесредневекового шелкоткачества в целом [Иерусалимская 1992. С. 10]» (С. 110). Что следует понимать под «этой школой раннесредневекового шелкоткачества в целом» — неясно. Не проясняет этого и статья А.А. Иерусалимской, к которой она адресует читателя. Между тем она продолжает: «за прошедшие с появления этой работы годы картина в основном мало изменилась, лишь пополнилась рядом новых экземпляров и некоторыми частностями» (С. 110). Надо понимать, что к частностям относится новый взгляд на предмет ее непосредственного исследования — согдийские ткани занданечи, изложенный в ряде новых публикаций (Marshak 2006; Raspopova 2006; Frye 2006; Шан Ган 2007), не упомянутых в монографии А. А. Иерусалимской. Работа Б.И. Маршака 2006 г. дается лишь как дополнительная ссылка к тезису о том, что надпись на шелковой ткани из бельгийского собора Нотр-Дам в Юи «признана согдийской и прочитана крупнейшим английским иранистом В.-Б. Хеннингом» (С. 109). В действительности же в данной статье Б.И. Маршак сделал важные выводы о тканях занданечи и о датировках согдийских тканей в целом и предложил иную трактовку содержания этой надписи (Marshak 2006: 50, 54, 59-60). А.А. Иерусалимская же «взяла на себя смелость пересмотреть интерпретацию ее смысла Хеннингом» (С. 109) лишь два года спустя.
Если ссылка на работу Б.И. Маршака, хоть и сомнительно поданная, приведена, то статья В.И. Распоповой (Raspopova 2006: 61-73), опубликованная в том же сборнике, не упомянута вовсе, при том, что эта статья, написанная в результате непосредственного изучения материала, посвящена текстильным орнаментам, изображенным на фресках из дворцов Согда, обсуждению которых в монографии А.А. Иерусалимской уделено несколько страниц (С. 111-112).
А где же «новые идеи», обещанные читателю в начале книги? По-видимому, к ним следует отнести «попытку исторической реконструкции», предложенную автором для объяснения «тех фактов, которые касаются рассмотренной... одежды». Содержание ее заключается в следующем: «Некий отступавший на запад по Предкавказью крупный аланский военный отряд завернул в весьма привлекательную во многих отношениях долину Большой Лабы, осел там и начал ее осваивать, смешавшись постепенно с аборигенным населением, вступая в браки с адыгскими женщинами. Не случайно, по-видимому, к XI в., по прошествии столетия после этих, условно реконструируемых событий, когда смешение разных этнических пластов здесь зашло уже далеко и стабилизировалось, мужской костюм продолжает сохранять преимущественно аланские, иранские, черты, а женский в целом ряде своих разновидностей остается в ощутимой степени адыгским» (С. 234). Из предшествующего текста следует, что мужской костюм при этом претерпел некоторые изменения, обусловленные «характером жизни или климата». «Так, достаточно суровый климат требовал большой длины верхней одежды (включая рукава, перекрывавшие кисть) и обусловил значительную роль меха в качестве утеплителя, — пишет А.А. Иерусалимская. — Пастушество, необходимость длинных конных переходов в горных условиях способствовали созданию удобного типа одежды (прежде всего, мужской) и т. д. Неудивительно, что эти черты сохранились у горных жителей Кавказа вплоть до ХХ в.» (С. 222). Здесь хотелось бы последовать примеру автора и ничего не комментировать, если бы мысль о «фантастичности реконструкции исторических обстоятельств» (С. 234) не была опубликована в научном издании. Мужской костюм народов Северного Кавказа складывался не как костюм пастуха, но как костюм воина. Доказательства этому содержатся в утилитарных функциях одежды и семантическом значении элементов костюма, прежде всего головного убора и пояса с оружием (Доде 2006: 148149,154). Широким распространением и популярностью кафтан, подобный находкам в Мощевой Балке, обязан образованию первого Тюркского каганата, включавшего огромную территорию, и, воспринятый многими народами от Китая до Византии, он перестал быть собственно тюркским (Кубарев 2005: 42). Такой кафтан стал элементом, наиболее приспособленным к костюму воина-всадника, вне зависимости от языковой принадлежности последнего.
На Северном Кавказе укреплению традиции ношения кафтана тюркского типа в составе мужского костюма способствовало вхождение алан в Хазарский каганат, оказавший наибольшее влияние на развитие северокавказских народов в VII-X вв. Аланская правящая династия состояла в союзе и родстве с хазарской (Алемань 2003: 434). Вероятно, что находящееся на военной службе мужское аланское население носило принятый при хазарском дворе костюм, ставший уже привычным. Распространение всаднического кафтана среди средневекового населения Северного Кавказа было связано не с мифическим отрядом, прельстившимся долиной Большой Лабы, а с реальной культурнополитической ситуацией, сложившейся в средневековой Алании. Причины отличий мужской и женской аланской одежды, скорее всего, следует искать не в разных этнических пластах, как предлагает А.А. Иерусалимская, а в традиционном разделении труда, при котором основным занятием мужчин была военная служба, а на женщинах лежали заботы о доме. Архетипический характер представлений о различных социальных функциях мужчины и женщины прослеживается в аланском костюме достаточно четко (Доде 2006: 148-150).
В заключение хотелось бы обратить внимание на качество редакторской работы над авторским текстом. Приведу только два пассажа из монографии, содержание которых ставит читателя в тупик. В одном из них речь идет о «салфетке» с неясным и вылинявшим изображением, позволяющим, по мнению А.А. Иерусалимской, «предположить, что первоначально такие салфетки могли быть своеобразными “танскими картинами”. Местное население использовало эти шелковые изделия для погребальной пищи (наряду с собственными льняными, такого же размера)» (С. 117). В параграфе о снаряжении коня и всадника автор пишет: «Разумеется, совершенно не обязательно иметь в виду всадника-воина: ведь конь, конечно, широко использовался местными племенами и в мирной жизни — замечание, которое относится и к другим категорям описываемого инвентаря» (С. 291).
Может показаться излишним заострять внимание на таких «мелочах», как некорректные ссылки и отсутствие единой системы цитирования. Принятый автором порядок ссылок на литературу в тексте статьи то и дело нарушается подстрочными сносками (С. 132, 135, 144, 146, 348 и др.). В одних случаях, о которых говорилось выше, указанные страницы не соответствуют источнику, в других страницы не проставлены вовсе. Например, только в гл. IV не указаны страницы в ссылках на публикации Т.Д. Равдоникас (с. 189), В.А. Кузнецова (С. 212), Кусаевой (С. 224), самой А.А. Иерусалимской (С. 192), Benazeth (С. 222), Shmidt (с. 238). Независимо от того, кто несет ответственность за такое небрежное отношение к справочному аппарату — автор или два редактора, работавшие над текстом, для научного издания подобная ситуация недопустима.
Вместо указания письменных источников цитаты из китайской хроники III в. (с. 90), проповеди митрополита Астерия Амасийского (с. 100) и свидетельства византийского придворного поэта Павла Силенциария (С. 102) в монографии даны со ссылками на статьи А. А. Иерусалимской. Странной также выглядит ссылка на публикацию В.Б. Ковалевской при использовании автором сведений Моисея Хоренского (С. 228). Сама работа В.Б. Ковалевской при этом не указана, но вопрос не в этом. Непонятно, для чего А.А. Иерусалимской потребовалось обращаться к чужой статье, если она использовала труд профессора Агусти Алеманя «Аланы в древних и средневековых письменных источниках» в тексте и библиографии (С. 30, 370).
Наконец, в некоторых случаях утверждения А.А. Иерусалимской искажают смысл работ других исследователей. «Сама идея византийского влияния на согдийское художественное шелкоткачество, впервые высказанная автором в ряде статей, — пишет о себе Анна Александровна, — многое объяснила в данной сфере и, к моему удовлетворению, была воспринята и разделена одним из крупнейших специалистов в области византийского шелкоткачества А. Мутезиус (Muthesius 1997. Р. 197)» (С. 113). Оставляя в стороне факт, что на странице 197 в работе А. Мутезиус дано каталожное описание трех тканей из европейских музеев, не имеющее отношение к идеям А.А. Иерусалимской, что можно объяснить технической ошибкой, из работы А. Мутезиус ясно следует, что различные аспекты влияния византийского текстильного производства на шелкоткачество среднеазиатского региона обсуждались задолго до работ А.А. Иерусалимской, а именно в работе Шеферд и Хеннинга 1959 г. (Muthesius 1997: 94). В 70-е годы сама А. Мутезиус успешно продолжила исследования в данном направлении, в результате чего стало возможным составить значительный список центральноазиатских саржевых тканей, часть которых отсутствовала в списке Шеферд и Иерусалимской, что, по мнению А. Мутезиус, указывает на сохранение значительно большего количества шелков такого типа, чем было известно до этого, и что византийское влияние на центральноазиатское шелкоткачество было значительным (Muthesius 1997: 95). Таким образом, тема византийского влияния на центральноазиатское шелкоткачество была разработана А. Мутезиус без учета работ А.А. Иерусалимской.
У меня нет намерения разбираться в причинах подобных искажений в монографии А.А. Иерусалимской. Отмечу одно: в западных университетах студентов с первого курса обучают грамотно работать со справочным аппаратом. Некорректное цитирование грозит им отчислением. Российские вузы не отличаются такой взыскательностью. И это понятно: если авторитетные ученые позволяют себе такие вольности, что можно ожидать от тех, кто учится на их работах?
Обсуждение спорных моментов является неотъемлемой частью любого научного исследования. Занимаясь историей костюма народов Северного Кавказа, я неоднократно обращалась ко многим положениям, разработанным А.А. Иерусалимской. Я признаю ее вклад в постановку и развитие проблемы раннесредневекового северокавказского костюма, хотя разделяю далеко не все ее выводы. Но в своей дальнейшей работе я предпочту рассматривать идеи А.А. Иерусалимской в контексте ее статей, написанных без таких досадных оплошностей, как русскоязычная версия книги о Мощевой Балке.
Литература
Абаев В.И. 1949. Происхождение и культурное прошлое осетин по данным языка и фольклора // Абаев В. И. Осетинский язык и фольклор. Т. 1. М.-Л.: Изд-во АН СССР.
Алемань А. 2003. Аланы в древних и средневековых письменных источниках. М.: Менеджер.
Бернштам А. Н. 1940. Согдийская колонизация Семиречья // КСИИМК VI, 34-43. Веселовский Н. И. 1898. Отчет Императорской Археологической Комиссии за 1896 год. СПб.: Тип. Имп. Акад. Наук.
Гаген-Торн Н. И. 1933. К методике изучения одежды в этнографии СССР // СЭ 3-4, 119-135.
Доде З. В. 2001. Средневековый костюм народов Северного Кавказа: Очерки истории. М.: Восточная литература.
Доде З. В. 2006. Отражение социальных ценностей в костюмах средневекового населения Северного Кавказа // Этнографическое обозрение 1, 146-160. Дьяконова Н. В. 1980. К истории одежды в Восточном Туркестане II-VII вв. // Страны и народы Востока 22, 174-195.
Иерусалимская А.А. 1972. К сложению школы художественного шелкоткачества в Согде // Иванов А.А., Сорокин С.С. (ред.). Средняя Азия и Иран. Л.: Аврора, 5-58.
Иерусалимская А.А. 1992. Кавказ на Шелковом пути. СПб.: ГЭ.
Иерусалимская А.А. 2001. Некоторые вопросы изучения раннесредневекового костюма (По материалам анализа одежды адыго-аланских племен VIII-IX вв.) // Сташенков Д.А. (ред.). Культуры Евразийских степей второй половины I тысячелетия н. э. (Из истории костюма). Самара: Самвен, 87-105.
Кубарев Г.В. 2005. Культура древних тюрок Алтая (по материалам погребальных памятников). Новосибирск: ИАЭТ СО РАН.
Лобачева Н.П. 1979. Среднеазиатский костюм раннесредневековой эпохи (по данным стенных росписей) // Сухарева О.А. (ред.). Костюм народов Средней Азии. Историко-этнографические очерки. М.: Наука, 18-48.
Лобачева Н.П. 1989. О некоторых чертах региональной общности в традиционном костюме народов Средней Азии и Казахстана // Лобачева Н.П., Сазонова М.В. (ред.). Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. М.: Наука, 5-35.
Распопова В.И. 1970. Согдийский город и кочевая степь в VII-VIII вв. // КСИА 122, 86-91.
Распопова В.И. 1980. Металлические изделия раннесредневекового Согда. Л.: Наука.
Студенецкая Е.Н. 1989. Одежда народов Северного Кавказа XVIII-XX вв. М.: Наука.
Шан Ган 2007. Занданечи в Китае // Меньшикова М. (ред.). Шелковый путь. 5000 лет искусства шелка. Каталог выставки. СПб.: Славия, 28-33.
Frye R. N. 2006. Bukhara and Zandaniji // Sohorta R. (ed.). Central Asian Textiles and Their Contexts in the Early Middle Ages. Riggisberg: Abegg-Stiftung, 75-80.
lerusalimskaja A.A. 1978. Le caftan aux Simourg du tombeau de Moschtchevaja Balka (Caucas Septentrional) // Studia Irana 7, 183-211.
Ierusalimskaja A.A. 1996. Die Graber der Moscevaja Balka: Frйhmittelalterliche Funde an der nordkaukasisdnen Seidenstrasse. Mйnchen: Editio Maris.
Kajitani N. 2001. A Man’s caftan and leggings from the North Caucasus of the eight to tenth century: A conservator’s report // Metropolitan Museum Journal 36, 85-124.
Knauer E. R. 2001. A Man’s caftan and leggings from the North Caucasus of the eight to tenth century: A genealogical study // Metropolitan Museum Journal 36, 125-154.
Marshak B. I. 2006. The so-called Zandaniji Silks: Comparison with the art of Sogdia // Schorta R. (ed.). Central Asian Textiles and Their Contexts in the Early Middle Ages. Riggisberg: Abegg-Stiftung, 49-60.
Muthesius A. 1997. Byzantine Silk Weaving AD 400 to AD 1200. Vienna: Verlag Fass- baender.
Raspopova V. I. 2006. Textiles represented in Sogdian murals // Schorta R. (ed.). Central Asian Textiles and Their Contexts in the Early Middle Ages. Riggisberg: Abegg- Stiftung, 61-73
Источник: Российский археологический ежегодник № 3. СПб., 2013. С. 642-653


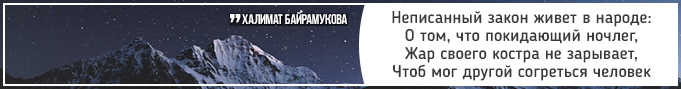












Комментариев нет